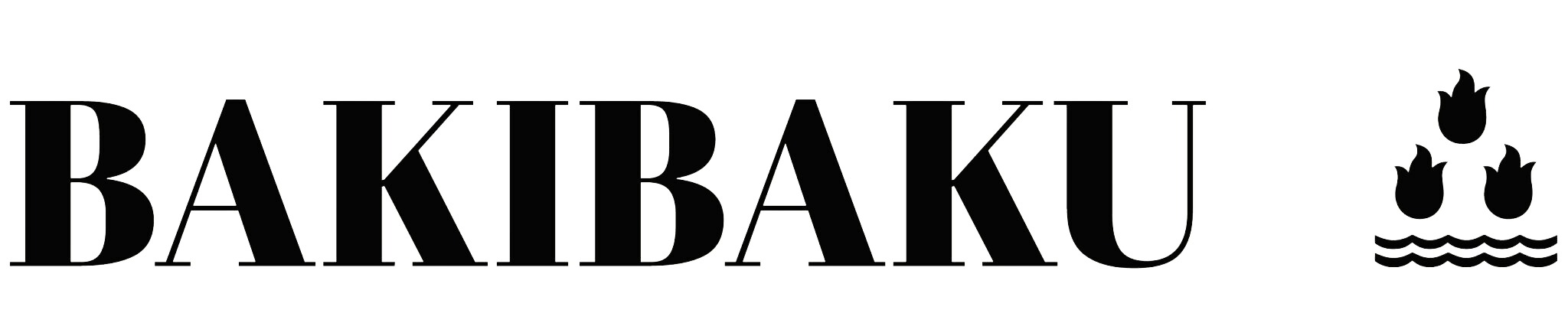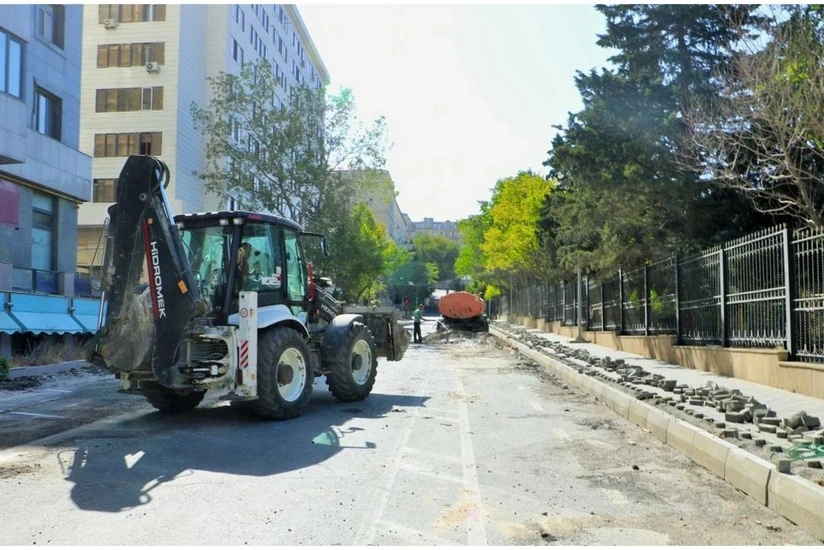Лейли Салаева
Можно ли назвать улицу Истиглалийят самой поэтической в Баку? Ответ напрашивается сам собой. Не только потому, что здесь расположены здания, связанные со словом, наукой и искусством. Сама улица словно написана стихами. От начала и до конца, от старого камня до кроны дерева, от памятника до мемориальной доски. Ее протяженность составляет один километр и триста метров. Если представить, что каждые сто метров — это строка, то вся улица превращается в ронде́ль, старофранцузскую поэтическую форму из 13 строк. Как и рондель, она замыкается в кольцо, где начало переплетается с концом, повторяются мотивы и образы, а смыслы вновь возвращаются.
Истиглалийят — это пространство архитектурной и поэтической симфонии. Она появилась в конце девятнадцатого века, когда Баку начал расширяться. Улица сохранила архитектурную стилистическую целостность и изящество, как хорошо написанное стихотворение сохраняет свою форму и ритм. Несмотря на присутствие разных направлений, от национально-романтического до барокко и неоготики, в облике улицы чувствуется уверенность классических архитектурных приемов. Это созвучно с поэзией Азербайджана, где, несмотря на стремление к новому, продолжают звучать мотивы классической романтики, наполненные внутренней драмой и тонкой меланхолией.
Словно река, улица Истиглалийят делит город на две части. С одной стороны расположены жилые дома, с другой — государственные учреждения. Именно здесь сосредоточены места, откуда исходит мысль: Институт рукописей, Национальная академия наук, два университета, средняя школа, где учатся будущие поэты и мыслители. Здесь же находятся здания, где принимаются важнейшие решения, такие как президентская администрация и городское управление. Всё это создает ощущение, что сама улица думает, пишет, творит.
Прогулка по Истиглалийяту особенно символична 28 мая, в День независимости Азербайджана. Само название улицы «Истиглалийят» означает «независимость». Это не просто географический маркер, но декларация, зафиксированная в городской ткани. Как и Декларация независимости 1918 года, эта улица напоминает о стремлении Азербайджана идти своим путём — в словах, в мыслях и в облике города.
Начинаем прогулку от здания “Монолит”, расположенного на пересечении с проспектом Азербайджан. Здесь жила поэтесса Мирварид Дильбази. Во время подготовки к строительству на этом месте был обнаружен огромный каменный выступ, который использовали как основание. Оно получило название “Монолит”, и это имя стало символом устойчивости, отражая и саму поэтессу, которая была одной из немногих женщин, удостоенных звания Народного поэта. Мирварид Дильбази по праву считалась народной поэтессой. Её стихи звучали в домах и на сценах, на её строки создавались песни, полюбившиеся целому поколению. А для детей она писала с особой теплотой, посвятив им не один поэтический цикл.
Стихи Мирварид Дильбази вошли в сердца многих. Имя Мирварид, которое переводится как «жемчужина», точно отражало суть её творчества — светлое, глубокое и искреннее. На серой мемориальной доске, где изображены портрет Мирварид и её книга, кажется, что они сливаются с фасадом здания. Это еще одна отсылка к её внутренней прочности и смысловому фундаменту, который она заложила в своей поэзии и в культурном наследии Азербайджана.
На светофоре переходим на зеленый свет и оказываемся в парке, где нас встречает Мирза Алекпер Сабир. Его поэзия была пропитана политическими и гражданскими мотивами, он стал ярким выразителем идей национально-освободительного движения Азербайджана. Его фигура, увековеченная в памятнике, служит живым свидетелем всех перемен, происходящих в городе. Автор бесконечных строк, в которых он высмеивает невежество и общественные пороки, наблюдает, как мимо него проходят школьники и студенты, а машины мчатся по своим делам. Во время гонок Формулы 1 мимо памятника проносятся самые быстрые болиды планеты, оставляя на асфальте следы стремительности и духа современности.
От этих постоянных перемен Сабир, который когда-то стоял здесь, а теперь его памятник перенесли в Балаханы, словно присел, будто устал от того, как стремительны перемены и развитие. Но по вечерам, когда вокруг загораются фонари, похожие на светлячков, он словно превращается в мага. Возле него невольно замедляешь шаг, чтобы поздороваться или просто остановиться на мгновение, словно перед кем-то, с кем всегда можно начать важный разговор.
Далее нас встречает здание Исмаилия, которое воплощает в себе не только архитектурную красоту, но и глубокую легенду о ста домах и особом месте в раю. Этот дворец был построен в память о сыне Мусы Нагиева, Исмаиле, который скончался от туберкулёза. Муса Нагиев, посещая своего сына во время его лечения в Швейцарии и Италии, увидел Палаццо Контарини дельи Скриньи и Палаццо Контарини Корфу, выполненные в готическом стиле, и задумал создать нечто подобное в Баку.
Здание было спроектировано великим польским архитектором Йозефом Плошко в стиле венецианской готики, а его внешний вид стал копией знаменитого Дворца Дожей в Венеции. На фронтоне здания были начертаны изречения Имама Али: “Человек возвышается и достигает желаемого только своим трудом. С рождения до смерти человек должен учиться. Мусульмане! Ваш век умирает вместе с вами, готовьте своих детей к новому веку.”
Хотя история его создания связана с трагедией, здание, несмотря на все испытания времени, сохраняет в себе стремление к свету. Оно пережило многое, в том числе смену алфавитов с кириллицы на латиницу. Это напоминает, как и сама улица, язык города адаптируется, но не меняет своей сути, продолжая быть частью его вечной памяти и духа.
Проходим немного дальше и оказываемся у дома, где жил другой великий поэт, Гусейн Джавид. Этот дом был построен знаменитым азербайджанским нефтепромышленником и меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым и изначально предназначался для мусульманской женской школы. Октябрь поэтически называли “джавиданом”, поскольку все члены семьи поэта родились в этом месяце, и теперь он навсегда связан с его именем.
В доме до сих пор стоит стол, за которым Гусейн Джавид работал. Именно благодаря потайному ящику в этом столе его рукописи чудом уцелели во время обыска — словно сам предмет мебели стал хранителем поэтического наследия. Особенно трогательно письмо поэта к жене из ссылки, в котором он просит прислать ему говурму и мятные конфеты. Это письмо раскрывает Джавида как живого, нежного и земного человека, соединяя образ поэта с обычной человеческой реальностью.
Покидая дом Гусейна Джавида, взгляд невольно притягивает фрагмент небесной синевы, открывающийся сквозь балкон на башне здания Исполнительной власти Баку — бывшей Бакинской городской думы. В предзакатный час луч солнца проникает через этот балкон, словно прощаясь с улицей, заливает её мягким светом и оставляет на прощание золотистое тепло.
Башня с балконом гордо выдается вперёд, словно сторожевое окно прошлого, откуда открывается вид на город и его перемены. Над зданием развевается государственный флаг Азербайджана, добавляя торжественный акцент к архитектуре. На фронтоне здания можно разглядеть символику — треугольник с всевидящим оком, оставленный, по преданию, масонами. Здесь, на фасаде здания, и по сей день хранится герб города Баку. Три золотых факела на нём символизируют огонь, вечный элемент и душу города, его прошлое, настоящее и будущее.
Балкон мэрии словно превращается в театральную сцену, откуда звучат строки пьес Наримана Нариманова — писателя, педагога и просветителя, чья жизнь была неразрывно связана с домом напротив. Подобно Сабиру, Нариманов вел борьбу с невежеством, считая образование важнейшим инструментом перемен. После утраты отца он стал опорой для всей семьи, и ради близких временно отказался от мечты продолжить обучение, отправившись преподавать в село Кызыл-Аджалы, что находилось в Борчалинском уезде. Здесь, среди крестьян, он был редким светом знаний в условиях, где школьное обучение почти отвергалось. Однако продержался он там всего полгода. Именно этот опыт стал основой для его первой драматической пьесы «Невежество».
Его заветной мечтой было, чтобы дети Азербайджана могли учиться и овладевать грамотой. Он продолжил педагогическую деятельность и одновременно занялся созданием просветительских материалов, писал учебные пособия и языковые самоучители. Важным вкладом стало открытие первой в Баку бесплатной библиотеки. В отличие от прежних заведений, где за доступ к книгам требовались немалые средства, у Нариманова плата была чисто символической, что делало знания по-настоящему доступными.
Нариманов говорил: “Человек создан для прогресса. Тот, кто сегодня приходит в этот мир и уходит, должен указать путь тем, кто придёт после него, чтобы они, увидев, что значит быть человеком, смогли продвинуться ещё дальше.”
Финальной точкой нашей поэтической прогулки становится Дом Поэзии «Ротонда», ранее носивший имя «Дом поэзии Вахида». Он расположен в самом сердце старого Баку — в живописном парке рядом с Филармонией, который когда-то звался садом имени Алиаги Вахида. Сегодня этот уголок зелени известен как Сад Филармонии, но память о великом гязяльхане здесь по-прежнему витает в воздухе.
Здесь легко вообразить, как в тишине сада собираются люди, чтобы послушать музыку слов, а в центре этого живого круга стоит Алиага Вахид, словно сотканный из самой поэзии, плетущий тонкую лирику и наполняющий воздух смыслами и чувствами.
Когда-то именно здесь возвышался памятник поэту, один из самых выразительных в городе. Позже его перенесли в Ичеришехер, и это перемещение стало предметом многих городских догадок и разговоров. Скульптура Вахида не просто бюст, в её линиях угадываются герои его гязелей, словно поэт навсегда соединился с созданными им образами и стал частью поэтической души Баку.
В этот момент часы на башне Исполнительной власти Баку пробивают полночь, ознаменуя смену времен.
Истиглалийят — улица, которую не просто проходят, её читают. Разное освещение улицы даёт разное восприятие, словно чтение поэзии в разное время суток. В зависимости от времени дня и угла зрения на улице открываются новые смыслы и ощущения, которые варьируются от прозорливого понимания до мистической тайны.
Здесь каждый шаг — это шаг во времени, где прошлое встречается с будущим. Вечером, когда тени становятся длинными, а свет тускнеет, улица Истиглалийят словно оживает и шепчет свои древние стихи тем, кто готов слушать.