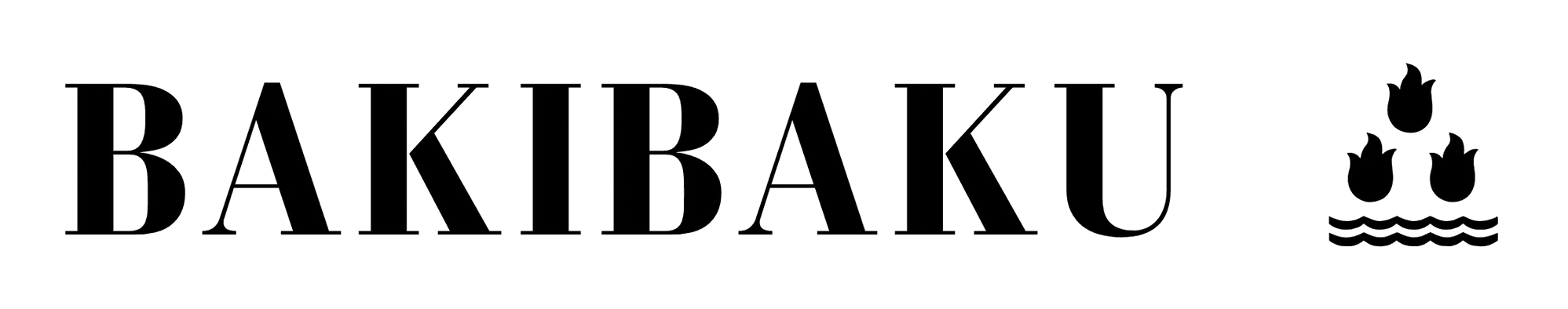Лейли Салаева
Мы живём в эпоху переосмыслений. Символы прошлого, прежде казавшиеся однозначными, обретают новые прочтения. Они не теряют значимости — напротив, наполняются новыми смыслами. Одним из таких многослойных культурных объектов является памятник «Освобождённой женщине» (Azad qadın heykəli) — первая монументальная скульптура в истории Баку, посвящённая женщине. Этот памятник стоит не только в географическом центре города, но и в центре важных культурных и социальных смыслов, пересекаясь с темами времени, внутренней свободы, знания и самоопределения.
Монумент был установлен 1 мая 1960 года, к сорокалетию Азербайджанской ССР. Скульптура создана Фуадом Абдурахмановым, одним из ведущих скульпторов Азербайджана XX века, в сотрудничестве с архитектором Микаилом Усейновым. Она изображает женщину в момент снятия чадры — жеста, который является одновременно личным и общественно значимым. Это не просто отказ от традиционного укрытия, но акт освобождения от невидимости, молчания и социальной замкнутости. Это шаг к образованию, труду, культуре и полноценному участию в жизни общества.
Сам скульптор делился истоками образа:
«Тема раскрепощения женщины-азербайджанки давно влекла меня. Начиная работу над скульптурой, я почему-то мысленно представил себе орлицу, запутавшуюся в тенетах. Она рвёт свои путы, наконец, освобождается от них. Ещё миг — и она стремительно взлетит в солнечное небо».
Образ орлицы родился у Абдурахманова ещё в 1930-х, когда он создал статуэтку «Севиль», вдохновлённую одноимённой пьесой Джафара Джаббарлы. Затем последовали гипсовая скульптура «Азербайджанская женщина» (1951) и бронзовая «Освобождение» (1957), представленная на юбилейной выставке в Москве. Именно тогда стало очевидно, что этот образ должен войти в городское пространство как монументальное высказывание о времени и внутренней трансформации.
Ещё в 1928 году, в своём первом опубликованном стихотворении «Чадра», поэтесса Нигяр Рафибейли обращалась к своей матери с призывом: «Подними и сбрось этот ночной ужас чёрного цвета». В этих строках чувствуется боль, протест и стремление вырваться к свету. Это было время, когда чадра воспринималась как символ угнетения и молчания.
Однако проходит почти век, и восприятие покрывала меняется. В 2012 году современная художница Айдан Салахова высказывается иначе: «Если вы попробуете поносить паранджу, вы себя почувствуете более свободными, потому что сможете закрыться и посмотреть внутрь себя». Здесь чадра уже не как внешняя преграда, а как личный, внутренний опыт уединения, самоанализа, даже силы.
Этот культурный сдвиг от бунта к размышлению показывает, как символы трансформируются вместе с эпохами. Памятник освобождённой женщине становится местом пересечения этих смыслов. Здесь снятие чадры воспринимается не как финал, а как переход — от внешнего к внутреннему, от навязанного к осознанному, от молчания к обретению собственного голоса.
Со временем памятник стал восприниматься не только как свидетельство определённой исторической эпохи, но и как универсальный символ внутренней трансформации. Он воздвигнут на десятиметровом постаменте, что подчёркивает масштаб идеи и глубину заложенного смысла. В философских традициях число десять символизирует завершённость и обновление: единица означает начало, а ноль — бесконечность, открытое пространство возможностей. Таким же образом фигура женщины, возвышающаяся на такой высоте, предстает не просто как скульптурный образ, а как знак перехода от подчинения к целостности и от навязанных ролей к личной свободе.
Форма постамента напоминает обелиск, древний символ солнца, света и вечности. Если взглянуть на памятник сверху, можно заметить, что он действительно напоминает солнечные часы с циферблатом в виде полукруга на земле. Это не только утончённое архитектурное решение, но и глубокая метафора. Жизнь женщины нередко определяется биологическими часами, которые, подобно чадре, очерчивают границы и оказывают влияние на её выбор. Однако здесь она уже не объект измерения, а гномон — центральный элемент, отбрасывающий тень, по которой можно ориентироваться. В этом образе она становится не только участницей, но и точкой отсчёта нового времени.
Женщина здесь не только солнце, но и река. Этот неожиданный образ возникает благодаря архитектурному контексту. За памятником расположено здание, которое в 1990-х годах служило филиалом Национального банка Ирана. После реставрации его фасад стал стеклянным и голубоватым, мягко отражая свет и напоминая струящуюся воду. В сочетании с непрерывным потоком машин по обе стороны памятника возникает метафора женщины как реки перемен, живой и текучей, способной менять форму, прокладывать путь, впитывать пространство и наполнять его новым смыслом. Ветры, возникающие между улицами, добавляют этому образу ещё одно измерение — дыхание перемен.
Памятник расположен на перекрёстке четырёх улиц — Шихали Курбанова, Салатын Аскеровой, Джафара Джаббарлы и Зивербека Ахмедбекова, словно в центре четырёх сторон света. Освобождённая азербайджанка обращена лицом к школе №18, носящей имя Микаила Мушфига, поэта, чья жизнь трагически оборвалась слишком рано и не позволила ему до конца прожить свою любовь к женщине по имени Дильбяр. В этом направлении находится не только взгляд скульптуры, но и вектор смысла — к знанию, к свободе мысли и глубине человеческих чувств. Через имя Мушфига ощущается важная роль женщины в жизни мужчины: она может стать его вдохновением, судьбой и неосуществлённой мечтой.
Неподалёку расположена станция метро «Низами», названная в честь великого поэта Низами Гянджеви, который в своём знаменитом произведении «Семь красавиц» создал образ женщины, в которой сочетаются ум, глубина, достоинство и знание.
«Не улыбкой сладкой только и красой она,
Нет, — она в любой науке столь была сильна,
Столь искушена, что в мире книги ни одной
Не осталось, не прочтенной девой молодой.»
Позже этот образ был воспринят и переработан европейскими драматургами. Такое культурное соседство показывает, что образ умной и образованной женщины не является современным явлением — он был известен и почитаем в Азербайджане ещё во времена великого поэта Низами. Это подтверждает, что образованная женщина всегда занимала важное место в культуре и обществе, и её роль имела глубокие исторические корни.
Сегодня же памятник, рождённый в конкретной исторической эпохе, утратил идеологическую однозначность и превратился в открытую метафору. Он звучит не как советская декларация, а как тонкий культурный и философский комментарий о том, как женщина становится не объектом взгляда, а субъектом собственной истории.
Город течёт вокруг. Машины, ветер, солнце. Кто-то спешит на работу, кто-то выходит из метро. А она стоит — высокая, открытая небу, неподвижная и живая одновременно — как точка отсчёта, как внутренний компас в бурном потоке времени.