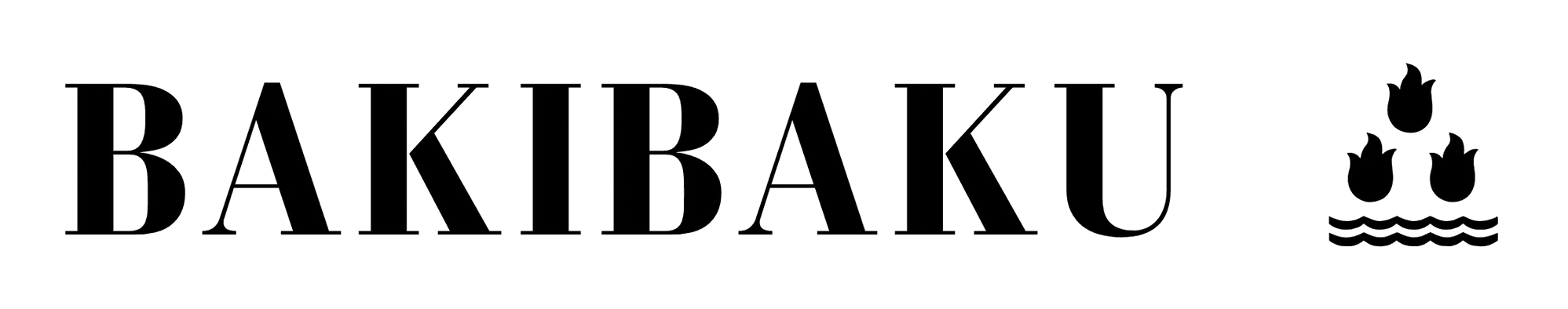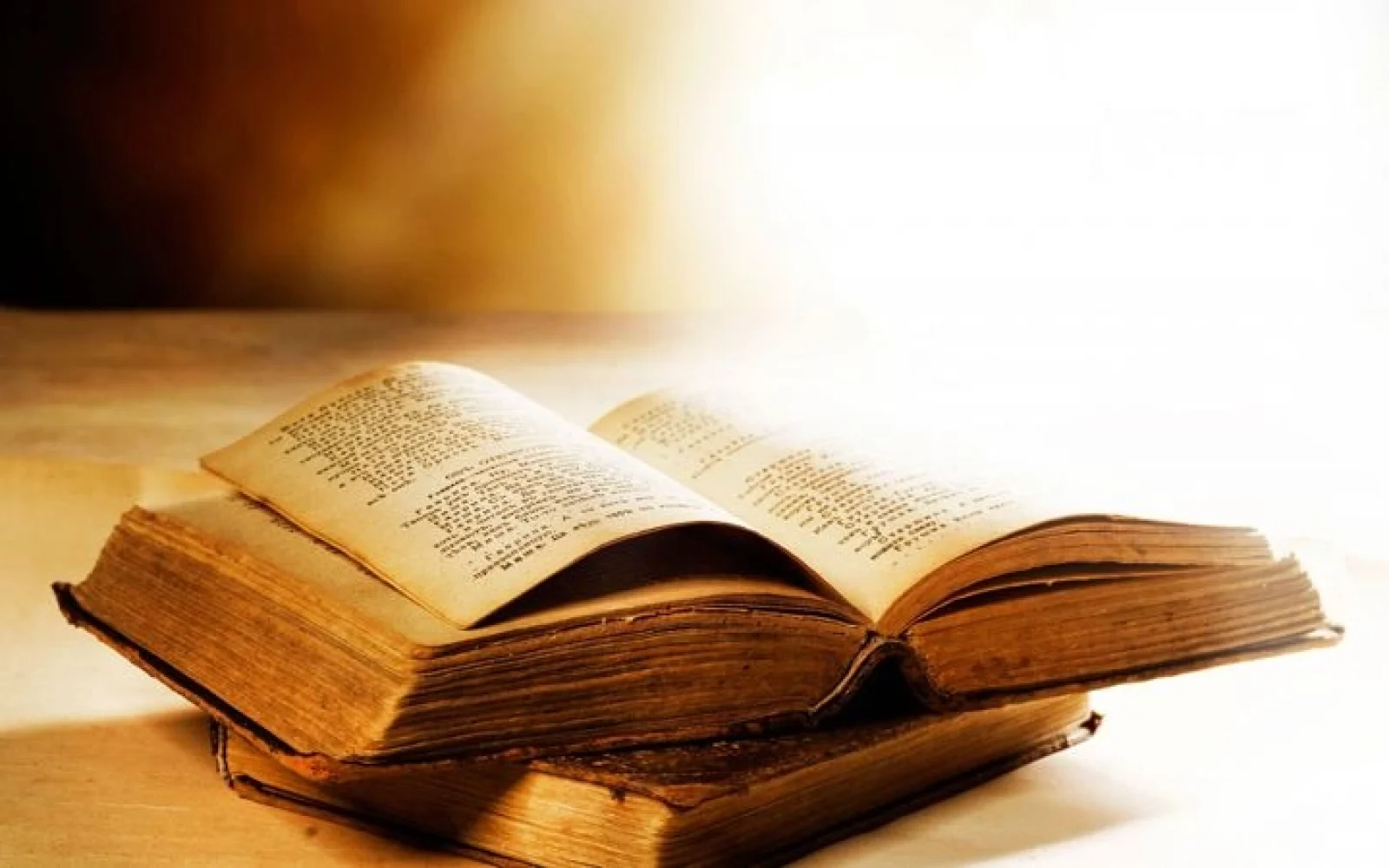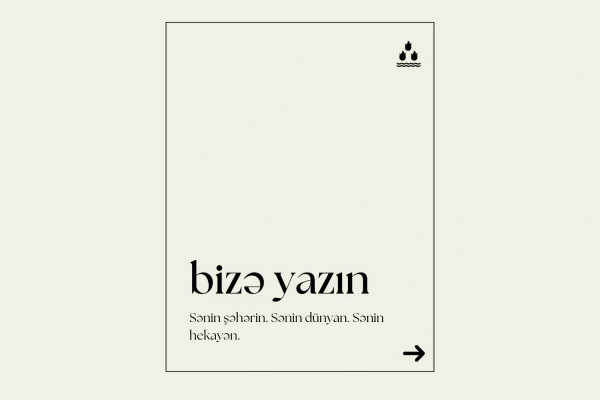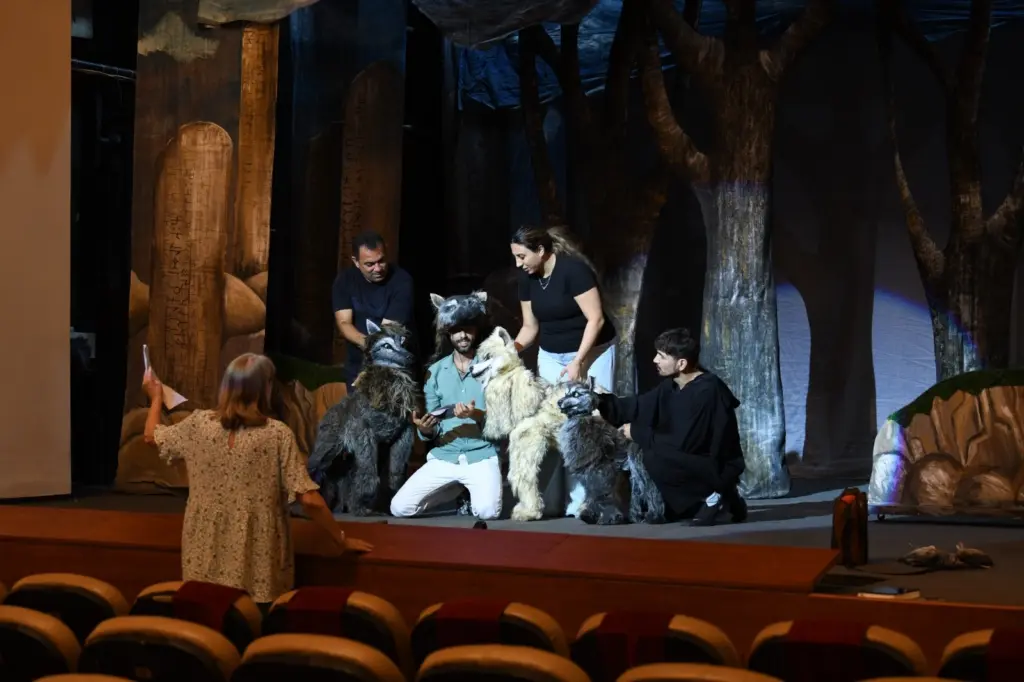Ещё в VII веке, с приходом арабов, на территории Азербайджана начали появляться первые библиотеки — при мечетях и медресе, призванные хранить и распространять учение Ислама. Это были не просто книжные полки, а центры духовного влияния, куда стекались рукописи из Багдада, Дамаска, Каира.
Как сообщает портал Baki-baku.az, к XII веку библиотечная культура достигла невиданного расцвета. В Баку гордостью правителей была библиотека Дворца Ширваншахов, в Гяндже — «Дар-аль-кутуб», в Барде и Тебризе — богатые книжные собрания, переполненные редкими персидскими и арабскими манускриптами.
Особая жемчужина — Марагинская обсерватория (XIII в.), первый на Востоке многоотраслевой научный центр. Её библиотека хранила 400 тысяч книг, включая труды Архимеда, Евклида, Птолемея и Аполлония, переведённые на арабский и персидский языки великим астрономом и математиком Насреддином Туси. Здесь создавались карты звёздного неба, разрабатывались астрономические таблицы, а учёные разных народов трудились бок о бок, делая обсерваторию мировым центром науки.
В эпоху Сефевидов книги стали символом государственной мощи. Шах Исмаил Хатаи в 1522 году издал указ о библиотечном деле и назначил директором своей библиотеки легендарного художника Кемаля ад-Дина Бехзада. Его дворцовое собрание считалось одним из богатейших в исламском мире. Шах Аббас II мечтал о печатном станке из Европы, чтобы ускорить книгоиздание, но казна не позволила осуществить задуманное.
Среди всех библиотек особняком стоит Ардебильская библиотека Даруль-иршад — «сокровищница мусульманской мудрости» с позолоченными дверями и строгим предупреждением для воров: «Тот, кто возьмёт книгу и не вернёт, пусть будет проклят и наказан Имамом».
В XIX веке она стала объектом тщательно спланированной операции русской армии. По Туркменчайскому договору её передача России не предусматривалась, но генерал П. Сухтелен, ссылаясь на «нравственное воспитание мусульман», убедил местное духовенство отдать книги «для копирования» — якобы с последующим возвратом. 800 червонцев, положенных на гроб шейха Сафи ад-Дина, окончательно склонили мулл. Книги были вывезены в Тифлис, а затем в Петербург, где их каталог составил Аббасгулу Ага Бакиханов.
Не менее ценным было собрание в Ахалцихе — около 600 книг по грамматике, риторике, математике, астрономии, философии, богословию и юриспруденции. Здесь, в отличие от Ардебильской, упор делался на учебные пособия, что делало её центром подготовки будущих учёных.
Бакиханов, Казем-бек, Мирза Фатали Ахундов — все они собирали свои книжные клады. В библиотеке Бакиханова хранились произведения Низами, Джами, Хафиза и десятков других восточных авторов. Казем-бек собрал более 11 тысяч книг по истории, философии и культуре Востока. Ахундов, реформатор азербайджанской литературы, владел уникальной коллекцией трудов европейских и восточных мыслителей.
Особое место занимает «Китабханейи-Мумтазиййе» Салмана Мумтаза — 200 редчайших рукописей азербайджанской литературы, которые восхищали академиков Бартольда и Ольденбурга. Увы, сам Мумтаз был репрессирован в 1941 году, а его собрание частично утрачено.
Эти древние собрания — религиозные, дворцовые, научные, личные — заложили основу будущих библиотек общественного пользования. К концу XIX века, в индустриальном Баку, появились городские читальни, научные, ведомственные и народные библиотеки, открытые для всех, а не только для избранных.
И хотя судьбы многих древних библиотек трагичны, их наследие живёт в научных фондах, университетских собраниях и культурной памяти Азербайджана — как символ того, что знание всегда было не менее ценным, чем золото и власть.
Гаджи Джавадов